
Удалая компания поэтов и писателей 70-х, в отличие от «шестидесятников», активных диссидентов и борцов с режимом, вроде бы, ни с кем не боролась. В основном все дико пили и куролесили. Но не только. Они имели силу и отчаянную решимость выбрать свой путь и бесшабашно пройти его, несмотря ни на что и не страшась гибели…
Называя свою статью «Портвейновый век», я вовсе не призываю всех снова пережить то время 70-х и начала 80-х, когда пьянство было делом серьёзным, судьбоносным, когда порой, проходя по Невскому в день получки, перешагивал многочисленные тела. Не дай Бог! Сейчас о тех лежачих лишь отдалённо напоминают «лежачие полицейские» на комфортабельных наших дорогах, по которым мы уверенно мчимся на дорогих автомобилях. Капитализм победил, а с ним – здравый смысл, и это правильно, что, когда мы приходим в бар, нам наливают «на донышке». Какие ж тут споры? Я просто вспоминаю то время, когда был молод и горяч.
Пили тогда много и зачастую то, что в руки попадёт, но всё же именно огнедышащий портвейн сделался символом той эпохи. Видимо, как сейчас выражаются, «из-за лучшего соотношения цены и качества». Боюсь, что под «качеством» понималась в основном сила его воздействия на организм, то есть сначала дикое возбуждение, потом отруб. Помню, я сам написал горестные строки, точнее, одну: «Пил – и упал со стропил». Но нашу скудную жизнь той поры он расцвечивал и согревал…
Люди простые ласково называли портвейн «портвешком», люди творческие придумывали имена, делающие напиток более экзотическим, иностранным, – произносили, к примеру, «портвайн» или, помню, «портваген». Несомненно, он пробуждал в нас фантазию, небывалые ощущения. В тёмно-красной его глубине виделись жаркие закаты в южных морях, кровь корриды, ноздри волновал чувственный аромат каких-то недосягаемых губ. Фантазировать, вкушая его, было легко, и, что греха таить, в талантливых душах наших современников он породил много дивных картин и упоительных строф. Опасность его поначалу не ощущалась, и многие не смогли вовремя остановиться. И что значит «вовремя», если с какого-то момента он становится единственным «горючим», на котором можно «достичь недостижимого», а для творческого человека именно в этом смысл жизни. Портвейн (особенно в тогдашней модификации) – это, несомненно, допинг, но, в отличие от нынешних времён, те высокие достижения, которые были достигнуты в паре с ним, не отменяются. Да и как можно отменить искусство, а тем более жизнь? И когда я вспоминаю те времена, почему-то приходят на ум эпизоды всё больше радостные, или глубоко поучительные, философские, или даже пусть и трагические, но со светлой слезой. Нет, не зря мы, не зря мы жили и пили! Мы же сражались с зелёным змием, с главным врагом человечества, и порой одерживали неслабые победы! Не один вред нёс напиток – были и взлёты. И дело, конечно, не столько в нём, сколько в тех людях, о которых мы сейчас вспоминаем.
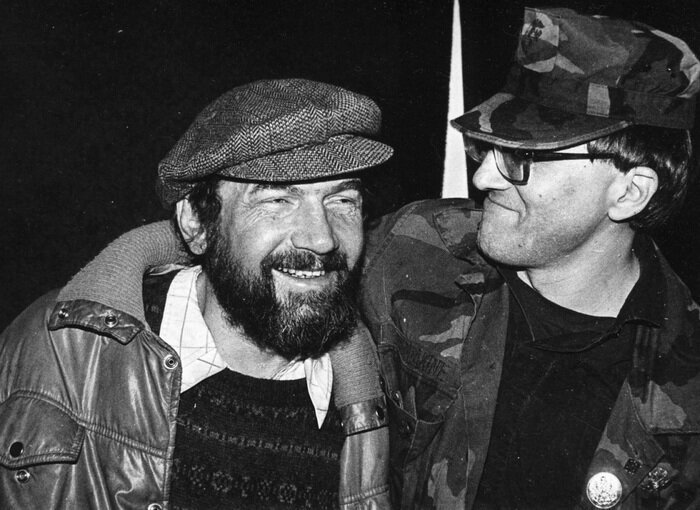
Помню заседание суда, выпустившего своим решением на свободу гениального поэта Олега Григорьева… после вполне заслуженной им отсидки в камере предварительного заключения, где Олег находился за то, что сбил фуражку с милиционера, посетившего его дома в неурочный час. Сразу после выхода Олега из-за барьера, отделявшего его от нас, мы, ухватив его, бежали по длинному коридору с редактором Ольгой Тимофеевной Ковалевской, держа за обе руки освобождённого узника, а следом неслись, размахивая бутылками портвейна, тогда ещё пьющие митьки… План наш был оторваться от преследователей, сесть в уже ожидающее такси и умчаться. И план удался! Придумал план побега сам Олег ещё находясь в застенке, подробности мы проработали посредством шифрованной переписки. Идея была отвезти Олега в место, где никто не пьёт, и продержать там недельку-другую, а там, глядишь, он уже и сам не захочет. Много было обожателей Григорьева, но найти обожателя-трезвенника было непросто. Но – удалось. Трезвенник-драматург встретил Олега чаем, и мы, увидев, как Олег весел с чашкой в руках, радостные уехали.
Дальше рассказывает драматург: он был счастлив видеть вблизи Олега Григорьева, стихи которого он обожал и знал наизусть, как и многие тогда, тем более что дорогой гость всё более оживлялся, прихлёбывая чай, и гениальные стихи и экспромты всё чаще слетали с его уст. Такого восторга, рассказывает драматург-трезвенник, он не испытывал больше никогда! В какой-то момент он насторожился: восторг его явно зашкаливал, обычно сдержанный драматург с изумлением не узнавал сам себя… Как портвейн попадал в чай и как хозяин этого не заметил – останется загадкой для будущих биографов. Ведь Олег оказался за столом непосредственно после КПЗ и суда, никуда больше не заезжая, будучи большую часть времени отгороженным от других… И потом, интересно – как подливал? Талантливый человек талантлив во всём! Драматург долго ломал голову над этой загадкой: как горячительный напиток оказался в его крови? Может быть, портвейн находился в заварке? Может быть. Драматург решил разгадать секрет, и они пили душистый чай чашку за чашкой, и в результате драматург сильно закосел. Жена, решив к ним тактично зайти и спросить, не нужно ли чего-нибудь ещё, с изумлением увидела совершенно пьяного мужа-трезвенника, который вроде бы собирался спасать поэта от этого самого, чему неожиданно подвергся сам. Олег же, напротив, был собран, приветлив и фактически трезв. После драматург утверждал (и жена это подтверждала), что именно с этого дня произошёл решительный перелом его творчества в лучшую сторону – и Григорьев окончательно стал их кумиром. А вы говорите – «портвейн»! В том поколении, «загубленном портвейном», оказалось необъяснимо много ярчайших звёзд…
Многих творческих людей той поры, не имеющих времени, а порой даже и желания пробиваться в официоз, злобные завистники называли тунеядцами, включая в этот ряд и нашего нобелиата, но на самом деле людей более деятельных, чем они, не существовало.
Вспоминаю лучезарного поэта Володю Уфлянда, обожаемого столь разными людьми, как Довлатов и Бродский. Бродский современных поэтов не очень любил, особенно тех, кто работал «на его поле», а с Уфляндом им делить было абсолютно нечего, и Волосика, как называл его Бродский, он обожал всегда – «толкаться» им не приходилось, у каждого был свой отдельный огород, у Уфлянда огород пёстрый, весёлый и бесшабашный, какого не было – и не будет! – больше ни у кого. Пожалуй, он единственный талантливый поэт, абсолютно искренний в своём оптимизме. Редчайший в России, не нагнетающий искусственной скорби, как это делают многие, чтобы казаться значительней… Поэтому Бродский одного только Уфлянда – не по делам, а по душе – любил. А трагедий с головой хватало Иосифу и в своих собственных стихах. А Уфлянд – весёлый. И вот уж тунеядцем его назвать – значит, обидеть. Он прекрасно шил, пилил, строгал – вся квартира была разукрашена его изделиями, висела его потешная графика, на грани гениальности, при том он честно работал на общество – сперва разнорабочим в Государственном Эрмитаже, а потом писал на «Ленфильме» замечательные диалоги и зонги для наших фильмов и дубляжа, либретто для опер. Даже и выпить ему порой было некогда – столько ждало его любимой работы. Кудрявый, улыбчивый, он и в стихах своих излучал оптимизм. Вот самый любимый мой – «Рассказ женщины»:
Помню, в бытность мою девицею,
Мной увлёкся начальник милиции –
Смел. На каждом боку по нагану.
Но меня увлекли хулиганы.
А потом полюбил прокурор –
Приглашал с собой на курорт.
Я была до тех пор домработницей –
Обещал, что сделает модницей.
Подарил уже туфли чёрные.
Но меня увлекли заключённые.
А потом я жила в провинции,
Населённой сплошь украинцами,
И меня, увидав возле дома,
Полюбил секретарь райкома.
Подарил уже туфли спортивные.
Но меня увлекли беспартийные.
Стихи Уфлянда оставляют тихую улыбку на лице. Есть плёнка, где Бродский радостно и легко читает своё любимое стихотворение Уфлянда – «Мир человеческий изменчив», – и Иосифа, обычно надменного, не узнать. Великие не только упивались стихами Уфлянда (он помогал им жить), но и сами, в минуту отдохновения, посвящали ему лёгкие, радостные стихи. Довлатов – Уфлянду:
Приехал в город Таллин
Не Тито и не Сталин,
Поэт Володя Уфлянд (Ленинград).
Он загорать мог в Хосте,
Но вот приехал в гости,
К Далметову, который очень рад.
Той ночью мы с ним в паре
Нажрались в Мюнди-баре,
Мы выпили там джина литров пять.
Наутро пили пиво,
Вели себя игриво
И в результате напились опять.
На следующее утро
Мы рассудили мудро,
Что больше пить нельзя, что это – «фэ!».
Но всё же (что за блядство!)
Пошли опохмеляться,
И в результате снова подшофе.
Мой стих однообразен,
А мир разнообразен.
Он в нас самих. И это сущий ад.
Мы живы (это важно).
И мы живём отважно.
Будь счастлив. Я дружу с тобой. Vivat! А ещё говорят, что мы развалили Советский Союз! Да мы обожали то время, когда можно было поехать в Таллин без каких-либо политических, юридических и экономических проблем, – и мы немало внесли средств как в экономику России, так и других республик, разъезжая туда-сюда. А тот же Довлатов писал о людях многонациональной нашей страны – например, широко известный сценарий «Гиви едет в поезде. Билета нет!» А у того же Уфлянда могила отца была в Таллине, и он часто туда приезжал, а я, помню, с восторгом жил в жарком Ташкенте, занимаясь довольно необычным делом: писал сценарий – уже снятого фильма! Как-то режиссёр перепутал порядок действий – и я дружески его выручал. Что говорить, славное было время. Правда, стихов Уфлянда не напечатано было ни строчки, а при этом его ещё вызывали и расспрашивали. «В вашем стихотворении упоминается Председатель Верховного Совета СССР Ворошилов Климент Ефремович. Вы пишете: «…мне нравится товарищ Ворошилов – седой, в дипломатическом костюме…» Что вы имеете в виду?» «То самое и имею в виду, что написал!» – как всегда добродушно улыбаясь, отвечал Уфлянд. «Вы лжёте!» «Когда же именно?» – удивлённо спрашивал Володя. Надо было быть неповторимым Уфляндом, чтобы даже при таких делах продолжать улыбаться и любить всех.

Однажды Уфлянд шёл в гости ко мне – радоваться вместе: я как раз переехал в новую квартиру на углу Невского и Большой Морской, где до меня жила Ирина Одоевцева, прелестная поэтесса Серебряного века, переселённая из Парижа сюда по причине преклонного возраста и нищеты. После её смерти туда въехал я и ждал Уфлянда. Раздался звонок. Володя стоял, согнувшись, держась за голову, и между пальцами проступала кровь. Какие-то сволочи, видимо, проследили его от магазина и под аркой ударили кастетом и отняли сумку. Мы вызвали «скорую», и Володю увезли. И через какие-нибудь час-полтора прозвенел звонок и вошёл Уфлянд, вскинув руки с двумя портвейнами: «Это я!» «Слышь, Володя, может, отложим?» – «Никогда! Чтобы какие-то гады испортили нашу встречу?!» На голове его, в выбритой «тонзуре», задорно торчали «усики» операционного шва. «Вшили-таки тебе антенну!» «Аллё, аллё! Переходим на вторую бутылку! Как слышно?» – духарились мы. Потом я шёл Володю провожать. И дошёл с ним до угла Большой Морской с Невским. Здесь юркий Володя выскользнул из-под моей руки и заявил гордо, что дойдёт один. И прекрасно дошёл бы, но, к несчастью, какой-то очередной бенкендорф в порыве служебного рвения зачем-то отменил привычный всем нам и любимый наш переход и стёр полосатую «зебру» с лица асфальта. И где?! Как раз напротив знаменитого кафе «Вольф и Беранже», где Пушкин выпил стакан лимонада перед дуэлью и куда с тех пор стремится народ. Володя, естественно, ничего не знал об отмене перехода (за всеми глупостями не уследишь), и его сбила машина. Кстати, в этом опасном месте, у «Вольфа и Беранже», переход через бурный Невский по-прежнему отсутствует…
Утром, когда мы с Андреем Арьевым, редактором журнала «Звезда», пришли к Уфлянду в больницу, он, с загипсованной ногой, светло улыбался и никого не обвинял, даже наехавшего: «Торопился мужик». Когда это он с ним познакомился? Рассказал нам: «Сначала я ничего не соображал, потом вдруг увидал, что Серёга Довлатов, большой и красивый, в белом халате, взял меня на руки и несёт. И говорит мне: «Ничего, ничего! Терпи». Я и терпел. Утром он зашёл в палату, гляжу – вылитый Серёга. Спрашиваю его: «А как ваша фамилия?» Он улыбается: «Довлатян». Уфлянд уютно устраивался везде. Мир его был таким же уютным и светлым, как его стихи. «Век такой, какой напишешь!» – это я про Уфлянда сказал, всем злобным занудам, препарирующим Уфлянда и с ножом к горлу требующим от него «правды-матки» и «глубины». А нам она ни к чему!
Я всегда слышал голоса: «Какой-то это не наш поэт!» Русский поэт, по мнению большинства, обязан быть трагичным, активно делиться горем… Может, из-за этого и столько горя у нас? А Уфлянд – солнышко. Услышав о столкновении Уфлянда возле кафе «Вольф и Беранже» с машиной, величественный Бродский отбросил свои лауреатские дела и написал Волосику:
Пока срастаются твои бесшумно косточки –
Не грех задуматься, Волосенька, о тросточке.
В минувшем веке без неё из дому гении
Не выходили прогуляться даже в Кении.
И даже тот, кто справедливый мир планировал,
Порой без Энгельса, но с тросточкой фланировал.
…Но вот теперь, случайно выбравшись, с поломками,
Из-под колёс почти истории с подонками,
…чтоб поддержать чуть-чуть своё телосложение,
Ты мог бы тросточку взять на вооружение.
Своё будущее Волосик, конечно, создал и даже жил в нём. Но, наверное, он не чувствовал бы себя столь превосходно, если бы не великолепное окружение, неповторимая творческая среда той эпохи. По тем же улицам ходил, сопя вечно простуженным носом и подтягивая великоватые, кем-то подаренные штаны, гениальный и ужасный Олежка Григорьев, бормоча что-нибудь вроде: «Да, я ходил в Химснабсбыт. Но был там жестоко избит…» Похоже на его жизнь. И, тем не менее, он был поэтом состоявшимся, любимым всеми, кому это позволяла должность, а порой даже и теми, кому не позволяла… Сам Сергей Михалков ругал его! Но потом, говорят, пытался помочь.
Помню, как Олежка явился ко мне через месяц после выхода из «Крестов» и рассказывал о тюрьме так увлекательно и, главное, бодро, что я вполне искренне (и даже учитывая советское время) посоветовал ему написать о тюрьме детскую книжку. Полезная бы книжка была – о взгляде, меняющем привычное, – годилась бы и не только в тюрьме. Кстати (замечу для нытиков-профессионалов), Григорьев выполнил там норму кандидата в мастера по гимнастике… Может, и выдумал. Но – какая разница?
Отметился он и у меня на новоселье – даже раньше, но, к счастью, не так трагически, как Уфлянд. Сгрузив мебель в кучу, грузчики уехали, и я с отчаянием думал, как же мне её расставлять. И вдруг я увидел в окно приближающегося, сильно раскачивающегося Олежку Григорьева, да ещё с двумя соратниками, размахивающими бутылями портвейна, вовсе уже не полными – видно издалека. Сразу вспомнился его стих, замечательно нарисованный митьком Флоренским (который и Довлатова иллюстрировал): «С наперсниками разврата он торопился куда-то». «Всё! – понял я. – Планы рушатся! Одно дело – стихи, а другое – реальность!» И в корне ошибся. Оставил всё на жену, которая в безалаберности своей не уступала гостю и восторгалась им, – вот пусть и разбираются, «близнецы-братья»! А сам малодушно сбежал. Домой я возвращался часа через полтора, заранее с ужасом представляя, во что превратилась квартира, – и был морально наказан. Я увидел квартиру чистую, убранную и с педантично расставленной мебелью. «Кто это сделал?» – изумился я. «А Олежка! – сияя, сообщила жена. – И друзья его. Такие милые! Я попросила их мебель расставить – и они сделали мгновенно!» – «Но у нас же денег нет!» – «Но он не обиделся. Олежка ведь любит нас!» Вспоминаю то время – и слёзы на глазах!

Ещё в то же время жил блистательный и неугомонный Виктор Голявкин, бегал, подпрыгивая, как мяч, и писал такие же упругие, звонкие и совершенные, как мяч, рассказы. Потом эти рассказы упрыгали куда-то. Валяю по памяти (да простят меня его почитатели): «Мой отец пил водку, повторяя при этом, что дело не в этом. Когда мне было пять лет, он выгнал меня из дому. Но я не пал духом. Я стал подметать пристани. Сперва я едва успевал подметать за день одну пристань, потом уже подметал две-три, потом четыре. Потом я уже успевал подметать все пристани нашего города. Потом — пристани всей страны. Через год я подметал уже и те пристани, которые только собирались построить, потом я подметал и те пристани, которые никто строить не собирался. Отец мой, узнав об этом, сказал: «Молодец, выбился в люди!».

И таких рассказов было много, и все они были такими же оптимистично-победными, как и этот. При этом печатать их никто не хотел. Привычная тягомотина и даже расцарапывания болячек до крови почему-то никого не пугали, а непривычная гениальность, причём бодрая, вызывала непонятную панику. Про Хармса тогда ещё и слыхом не слыхивали, а Голявкин, похоже, и вообще книг не читал, да и разговоров не любил, сразу куда-то ускакивал. Никаких чувств, а уж тем более негативных, он не проявлял. Без каких-либо раздумий и мучительных пауз он скакнул в детскую литературу и вскоре стал самым любимым детским писателем. Школьники, слушая его рассказы, падали от хохота со скамеек. Хохотать они начинали, только услышав фамилию — Голявкин. Им даже его фамилия казалась замечательной шуткой. Вот детский его рассказ, вернее, часть рассказа: «Солнце льётся на голову мне! Эх, хорошо моей голове! Дождь льётся на голову мне! Эх, хорошо моей голове! Ничего не льётся на голову мне! Эх, хорошо моей голове!» Казалось, Голявкина ничем не пробьёшь! Почему же он начал пить, что, в конце концов, и сгубило его, далеко ещё не в старческом возрасте? Помню, как на своём шестидесятилетии он всё время подпихивал мне свою кружку левой рукой (правую сторону его парализовало) и бормотал, как всегда, не очень разборчиво: «Полную! Полную лей!» Что так подстёгивало его, почему пил всё стремительней? Думаю, жизнь рядом с его творчеством выглядела слишком скучно, пресно, текла медленно и неинтересно: квартира в скучнейшем новом районе, ничего вокруг радостного, никакого праздника, даже на юбилей! Я сказал ему, что радио весь день передаёт его рассказы и город хохочет: «Ты слышал?» — «Чего слушать, что я сам написал?» Он был максималист, не терпел того, что пихали и навязывали, пусть даже собственные рассказы. Да, гению трудно подобрать жизнь по таланту, за краем его таланта — банальщина, порядки, тоска! Жена его Люда, преданная и старательная, раздражала его и, по слухам, в последние годы писала за него. Это его изводило, талант его распирал, а рука уже не писала… Можно сказать, он взорвался изнутри, как глубоководная рыба в пустом воздухе. Не было вокруг ничего, даже близко похожего на гениальность! Висели по стенам его бурные, яркие картины, по образованию он был художник, закончил академию… но картины, в отличие от его прозы, гениальными не были, и он это понимал. А по его чувствам — так всё гениально должно быть, тупое-то зачем? Зачем так много? 80-е годы были просто чудовищными по скуке, особенно на окраине города. Я, помню, тоже оказался в Купчино рядом с Голявкиным… смотреть там было нечего. Впрочем, он и красот Петербурга, казалось, не воспринимал и не терпел. Чем любоваться-то? Вот что его изводило! А в 80-е всё скрылось в каком-то сыром болотном тумане. Вроде бы ожидались перемены после краха прежнего строя, взлёт яркой жизни, — вместо этого было лишь долгое ожидание автобуса на остановке. Читатели, на которых всегда тайно надеешься, оказались поголовно бездарны. Уныло сдавали макулатуру и считали самым главным успехом достать исторические книги Пикуля, который в томительной, долгой пустоте между двумя эпохами вдруг сделался самым главным, самым дефицитным. Вместе с прежней эпохой, которую мы снобировали и даже порой с ней боролись, исчез вдруг — хотя бы какой-то — литературный вкус. Свобода оказалась вакуумом. Для чего же мы жили, кипели, сверкали? И Виктор Голявкин умер. Сын вырос похожим на него как две капли воды — в этом было что-то от чисто голявкинского абсурда, но при этом унаследовал от папы лишь пьянство и через несколько лет после смерти отца лёг рядом с ним. Жена Виктора Люда приезжает к нему на кладбище регулярно, часто вижу её с тележкой на длинной дороге от станции Комарово до кладбища. «Мне бы такую вдову!» — говорю я ей дежурный свой комплимент, она устало улыбается и катит тележку дальше. Она понимает: время Голявкина не вернёшь. Читатель словно оглох…

Может, предчувствуя то, что они не понадобятся в будущем, и пили «проклятые поэты эпохи портвейна»? Конечно, проклятье было на них, и оно действовало. Вспоминаю последнюю встречу с Олегом Григорьевым на моём юбилейном дне рождения — он пришел когда попало и выглядел кое-как. Навалившись на стол, пускал сопли и раз за разом, раз двадцать подряд, выкрикивал один и тот же стих, не то чтобы так уж подходивший к праздничному столу: «Сперва я шёл на зов! Потом бежал на вопли! В кустах лежал Сизов! И кровь текла, как сопли!» И через минуту — опять. Публике это не нравилось, всем тоже хотелось повыступать — ведь не один же он выпил! Но он с тем же самым стихотворением перебивал всех. Было предложение выставить его за дверь охладиться, но я воспротивился… Бедный Олежка! Конец Григорьева был неказист.

Владимир Уфлянд после столкновения с автомобилем как-то сник, ходил заторможенный и рано умер. А ведь сколько в нём было радости! Так и не дождался настоящего признания.
Пережил всех буйный Глеб Горбовский (умер в 2019 году в возрасте 87 лет — ред.), той же закваски, что и остальные герои этих воспоминаний. Горбовский, видимо, один выжил из них всех, потому что несколько раз отказывался от прежнего имиджа, несколько десятилетий не пил, писал прозу и вдруг опять вернулся в прежнее своё «грозное состояние». И в теперешних его стихах больше всего «торкает» неповторимая его «хриплость», бесшабашность, порой злость, которую другие поэты боятся в себе, — в общем, всё то, что можно поиметь, лишь сильно рискуя. Понятие «проклятых поэтов» появилось во Франции, и они сказали всем то, на что до них никто не решался, — и к ним пришла слава. Мы же таких же своих почему-то не ценим так высоко, побаиваемся, вспоминаем нечасто, предпочитаем «гладких», чтобы не растревожили. Пора вынуть затычки из ушей, снова услышать те вольные голоса и поднять наш «портвейновый век» на нужную высоту, на отдельную высокую полку, снять с этого времени и авторов флёр неудачи, провала. Всем бы такой «провал»!
«Эх, если бы не портвейн!» — говорят те, которые никогда в жизни не рисковали и поэтому не создали ничего существенного. Что понимают они? «А Париж был бы без шампанского и, более того, без горчайшего абсента?» Это все как раз понимают. А вот про портвейн говорят как-то упадочно. Мол, не вышло у наших горьких пьяниц ничего! Такое уж время жестокое было, раздавило. Да и сами они погубили себя… Да они столько сделали, что можно и умирать! Не жалейте их — бесперспективное дело, зря только надорвётесь. Лучше позавидуйте им. Как и другие гении, жертвуя здоровьем и жизнью, они создали свой неповторимый, пусть не Серебряный, но другой, гораздо более близкий нам «портвейновый век». Они имели силу и отчаянную решимость выбрать свой путь и бесшабашно пройти его, несмотря ни на что и не боясь гибели… Впрочем, если делать помпезный их юбилей, обязательно случится какое-то безобразие: «всеобщее одобрение» с ними несоединимо. И слава Богу! Лучше всех сказал про них Блок — сам из той же компании:
Ты будешь доволен женой и собой,
Своей конституцией куцой,
А вот у поэта — всемирный запой.
И мало ему конституций!
Пускай я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала,
Я верю — то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала!

Кстати, это любимое стихотворение Горбовского, и однажды он, в расцвете застоя, прочёл его в телестудии с присущей ему яростью. Правда, без предупреждения, что считалось тогда недопустимым. Ну и что? Казалось бы, что такого? Блок. Классик. Школьники ленятся его учить. Всё как надо. Только что издан миллионным тиражом в двух солидных тёмно-синих томах. И вдруг — услышали! И сразу — шквал паники: «Кто это написал? Как пропустили?» Настоящая поэзия опасна всегда. И наш «портвейновый век» — в этом высоком ряду, всё там сияет ярким портвейновым цветом — и имена, и строки. Есть чем гордиться.
А сейчас что? Я веду объединение молодых писателей… Помню, как один из них, самый талантливый в тот год, сказал мне: «Счастливые вы, ваше поколение! Всё успели сделать!» — «А тебе что мешает?» — «Да времени не остаётся писать! Часов по двенадцать в день приходится на работе проводить». — «А ты проводи там времени меньше, а пиши больше!» — «Но тогда меня не назначат заместителем начальника обувного отдела. А если буду стараться — назначат». — «Ну, ты уж гляди, выбирай». С другим получилось ещё наглядней. «Вы говорите, что у меня слишком скучная, правильная проза. А что вы мне посоветуете?» Я вспомнил, как в его годы «выдавливал из себя по капле раба», и начал — наверное, глупо — с того, что заставлял себя иногда — не ночевать дома: «Ничего не боюсь!» Порой был повод для этого, но чаще — просто так! Сказать это ему? «Знаешь, Алексей… Ну, не заночуй хотя бы раз дома! Рискни!» На следующем занятии он сидел на том же месте в тех же аккуратных очёчках. Поднял руку, как в школе. «А я ваше задание выполнил!» «Какое это?» — я уже не помнил. «Не ночевал дома!» — «А-а… Ну, молодец». Он продолжал смотреть на меня. «А какое будет следующее задание?» — Он поднёс ручку к блокноту. «…Больше у меня для тебя заданий нет».
Мастерство не пропьёшь, талант не купишь.
Валерий ПОПОВ, story.ru
Фото: Светлана Дожанская/Союз фотохудожников России; Дмитрий Конрадт; Николай Симоновский; МИА «Россия сегодня»

